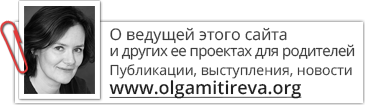Бес сиротства. "Русский репортер", № 6 от 13 февраля 2013 года.
Источник: http://rusrep.ru/article/2013/02/13/siroty
Автор: Анна Старобинец
После принятия «закона Димы Яковлева» проблема сиротства и детского неблагополучия в России стала наконец предметом общественной дискуссии: раз мы не отдаем «бесхозных» детей на Запад, что мы делаем с ними здесь? Более 60 тысяч родителей у нас ежегодно ограничиваются в родительских правах или полностью их лишаются. Пока Госдума планирует создать Министерство по делам сирот и рассмотреть во втором чтении закон об опеке и социальном патронате, «РР» решил выяснить, можно ли спасти семью, которую, по мнению органов опеки, остается только разрушить.
Дверь открывает бабуля. На голове у нее шерстяная шапка, на ногах колготки, на лиловом лице улыбка. Заходим в прихожую и окунаемся в густую душную вонь. В первую секунду ощущение, что ты захлебнулся и дышать теперь нечем. Потом привыкаешь, и можно уже различать отдельные запахи: кошачьей мочи, немытого кобеля, экскрементов, затхлости, перегара, клубящегося вокруг бабули.
— Простыла я, — бабуля убирает под шапку мокрую прядь. — Люба, пришли!
Здесь живет семья Голиковых: Любовь, ее муж Витя, их четверо детей, бабуля в шапке (мать Любы) и домашние питомцы. Поголовье животных точному исчислению не поддается: семь-восемь собак, десять-двенадцать кошек, два кролика, ну и по мелочи — морские свинки, мышки, тараканы. Квартира формально четырехкомнатная, но каждая комната размером с просторный сортир — особенность планировки балашихинской панельной пятиэтажки. Мы заходим в «детскую».
Волонтер Юля в гостях у семейства Голиковых
Мы — это психолог Юля, волонтер Алиса из организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и я. Органам опеки Голиковы дверь уже давно не открывают, но те все равно время от времени прорываются: это их работа. Осмотреть жилищные условия, изъять детей, если условия ненадлежащие, и обратиться в суд.
В кровати четырехлетний мальчик в одних трусах и семилетняя девочка играют с одноглазым котиком. Их девятилетний брат щелкает пультом, пытаясь включить DVD, но пульт не работает. Под ногами хлюпает — возможно, когда-то покрытие было ковровым, но теперь это органика. Обои свисают клочьями. Любовь, голубоглазая круглолицая женщина в бейсболке, любезно предлагает нам сесть на грязное одеяло. У Голиковых суд был уже трижды, и каждый раз детей оставляли в семье — не без помощи волонтеров, которые выступали на стороне защиты. Опека планирует обращаться в суд снова. Впрочем, если Госдума все-таки примет законопроект о социальном патронате, органы опеки должны будут еще и вести с семьей «профилактическую работу, направленную на предотвращение утраты родительского попечения». То есть предполагается, что опека сначала попытается предотвратить собственное требование о лишении прав, а если предотвратить не получится — обратится в суд.
Я смотрю на армию тараканов, идущую по стене, и думаю, что «патронировать» эту семью не имеет смысла. А имеет смысл срочно спасать этих детей, забрать их куда-нибудь — куда угодно — из этой вони и грязи…
Кого мы оставим
— Люба, давай серьезно. Мы поможем с ремонтом, но для этого нужно убрать всю мебель.
— Мебель развалится, — Люба косится на полуистлевший шкаф.
— Вот именно, — кивает психолог Юля. — Поэтому мы тебе другую привезем. А это все на помойку. Хорошо?
Собственно, волонтеры сейчас как раз осуществляют тот самый социальный патронат. И чтобы выиграть следующий суд, и просто чтобы жизнь здесь как-то наладилась. Органы опеки тоже неоднократно требовали, чтобы Голиковы сделали ремонт, — безрезультатно. Но Юля полагает, что если говорить не с позиции силы, а как равный с равным, что-то изменится.
— Теперь про животных. Кого бы ты хотела оставить, а кого пристроить в приют?
Любовь принимается по очереди таскать в комнату своих зверей, чтобы их сфотографировали и вывесили на сайтах вроде «Пса и кота». Первым приводит ротвейлера:
— Я его в лесу нашла, всего кровяного, обстрелянного, думала, помрет. Отсюда я пулю вытащила, а эту, за ухом, так и не вытащила, там шарик, потрогайте.
— Отдаем его?
— Нет, оставляем, кому он нужен, обстрелянный?
Вслед за ротвейлером является отравленная овчарка — Любовь ей делает капельницы. Потом упавшая с высокого этажа кошка. Другая кошка, слепая. Собака, перееханная машиной. Котик, который любит сосать одеяло. Черный кролик. Белый кролик. У каждого зверя есть история, и в каждом случае получается, что именно этого отдать никак невозможно, потому что без Любови он не выживет. Каким-то чудом под ее руками все эти полумертвые твари — пристреленные, прирезанные, сброшенные из окон, раздавленные — действительно оживают. Говорят, летом она выхаживала дома каких-то слизней, которые от жары пересохли… Любовь улыбается, когда показывает нам свою живность. Все остальное время у нее тревожное, недоумевающе-сосредоточенное лицо. Такое бывает у нашего кота, когда мы снимаем с антресолей чемодан. Он понимает, что кто-то куда-то уезжает — но не понимает, кто, зачем и куда. Любовь, по-моему, тоже не понимает, почему у нее хотят забрать ее кошек, собак и кроликов. И почему, если она их не отдаст, у нее заберут детей.
— На время ремонта мы можем тебя с детьми устроить в пансионат. Или снять вам комнату. Как ты больше хочешь?
— Хочу в деревню. Мы в деревню хотим.
В принципе в деревне эта семья смотрелась бы куда органичнее, думаю я. Ну, грязь, ну, босые дети, зато свежий воздух и запаха такого не будет. А кошки бы ловили мышей… Чуть позже волонтеры расскажут мне историю про отца семейства, которого сейчас дома нет. Одно время он работал в деревне, но его выгнали после того, как он пытался спасти телят, которых вели на убой.
На тумбочке у кровати счет за коммунальные услуги на восемьсот тысяч рублей. Старшему мальчику наконец удается запустить DVD.
— «Человек-паук», — мечтательно говорит он.
— Ты уже помешан на этом «Человеке-пауке»! — с чувством выговаривает Любовь. Воспитательный проблеск кажется здесь проявлением подлинного безумия.
Тараканы движутся по стене двумя потоками навстречу друг другу. Однако битвы не происходит: они просто счастливо соединяются в одну стаю. Здесь вообще на удивление мирно. Овчарка вылизывает кролика, которого держит на руках Люба. Практически «лев возлег с агнцем»… Никто здесь никого не кусает, дети делятся друг с другом печеньем, которое мы принесли, играют с котиком и выглядят абсолютно счастливыми. В школу они не ходят, потому что их там обижают. За то, что они плохо пахнут.
— Ой, а что же это с зубами у ребенка? — восклицает Алиса, когда младший мальчик ей улыбается.
— Да вот, — Любовь ловко раскрывает мальчику рот, как только что раскрывала собаке, мальчик так же спокойно терпит. — Зубы сначала поменялись, а потом за две недели все выпали.
Мы смотрим на черные корешки зубов. Потом уходим, а собаки Голиковых бегут за нами по лестнице, а потом по загаженному двору, мимо раскрошенного батона, который Люба кинула птичкам, но который жрут крысы, мимо пьяного мужика с черным опухшим лицом, мимо сломанных качелей и облезлых домов…
Если дети Любы все-таки попадут в приют, они будут «наследственными» сиротами: Любу Голикову в свое время забрали у матери, нынешней бабули, и поместили в приют. И ее муж тоже из приюта. Неизвестно, жила ли в приюте в свое время бабуля, но это вполне вероятно. Какой-то бес разрушает эту семью.
Родовое неблагополучие
— В голове ребенка, живущего в семье, простраивается модель, — говорит психолог Юля. — А какая модель у Голиковых? Неуспешная: их забрали. А интернат — это вообще не модель, а ее отсутствие. Потомственных сирот в России очень много. Мы сейчас пытаемся переломить эту модель для Любиных детей и внуков.
— Но разве детям не опасно жить в такой антисанитарии?
— Позиция опеки как раз такая: сухо, тепло и сыто — это в первую очередь. Я с ними в суде спорила. Эти дети уже выросли в такой обстановке. В этой семье у них есть главное: они чувствуют себя любимыми и защищенными. Вопросы сухости и сытости не являются сейчас для них приоритетом.
— А выпадающие зубы — не приоритет?
— А с зубами так. Государство вроде как говорит: «Давайте мы заберем ваших детей, и тогда мы их вылечим». А почему этого не сделать сейчас? Что Люба услышит, когда приведет ребенка к стоматологу или придет в органы опеки? «Почему у тебя столько кошек?», «Почему твои дети воняют?» Общество не готово толерантно принимать эту семью.
— Но ведь если бы такая семья существовала в Германии, этих детей забрали бы.
— Скорее всего. Только вот в Германии уже давным-давно нет проблемы вторичного сиротства, большинство детей из неблагополучных семей тут же попадают в благополучные. А у нас — в интернаты.
Всю следующую неделю я езжу с волонтерами по неблагополучным семьям, все они живут за МКАД. Семья, в которой мать-инвалид растит восьмилетнюю дочь вместе со своей старенькой мамой, у которой хобби — копаться в помойках. У них тоже собаки и кошки. Семья, в которой шестнадцатилетняя девочка родила ребенка одновременно со своей сорокалетней матерью. Сорокалетняя оставила своего в приюте, а шестнадцатилетняя взяла домой. Теперь сорокалетняя — мать-кукушка и одновременно бабушка. Иногда у нее сносит крышу и она устраивает истерики «дочери-шлюхе». Живут они все втроем на детское пособие. Шестнадцатилетней блондинке мы привозим памперсы, детское питание и тонкие дамские сигареты. Ей повезло, у нее хотя бы есть дом. Кому-то повезло меньше.
— …Познакомилась я с парнем, забеременела, а он меня бросил. Мать меня видеть не хочет и внучку тоже. Но все равно я не хочу, чтобы она знала, что я живу в этом месте, вы мое имя не пишите…
Срок проживания в «Теплом доме» не ограничен. Женщина живет здесь, пока не найдет работу или пока не н аладит отношения с родственниками и не вернется на родину
«Это место» находится в Королеве и называется «Теплый дом», одна из структур все тех же «Волонтеров в помощь детям-сиротам». Здесь занимаются еще одной формой соцпатроната — профилактикой отказов в роддоме. У всех здешних обитательниц истории схожие: приехала в Москву на заработки, забеременела, выгнали с работы, прогнали со съемной квартиры, из роддома не знала, куда идти, хотела написать заявление. Приехал психолог от волонтеров, поговорил, решила оставить ребенка.
— Правильно ли вообще убеждать женщину оставить ребенка?
— Задача психолога, выезжающего на отказ, — не убедить мать оставить ребенка, а помочь ей принять осознанное решение — отвечает директор «Теплого дома» Татьяна Богдашова. — Роды сами по себе стресс плюс жизненная неустроенность. Судьбоносное решение принимается в состоянии шока. А нужно объяснить этой женщине, какие еще есть варианты.
— Ходят страшные слухи, что рожениц склоняют к отказу, так как велик спрос на младенцев.
— Куда лучше, чем какие-то криминальные схемы, работают просто изначальные установки медперсонала и сотрудников опеки: у них еще с советского времени уверенность, что госучреждение для ребенка лучше, чем неустроенная по жизни мама, — в учреждении ведь тепло, пятиразовое питание, «специалисты». И никто не задумывается о том, что у ребенка возникает нарушение привязанности и, как следствие, масса других нарушений.
Законоборцы и законотворцы
«Родители, которые соберутся 9 февраля 2013 года в Колонном зале Дома союзов, — против ювенальной юстиции! Наша семья будет сообразна тому, что завещали нам предки!.. При этом эти родители поддерживают власть во всем, что касается «закона Димы Яковлева»! Отсутствие вывоза наших сирот за рубеж — благое дело, спасающее детей от особого рабства!» — вещает Сергей Кургинян в видеоролике на сайте anti-ju-ju.livejournal.com.
После принятия в сентябре в первом чтении закона об опеке и патронате «антиююшники» уже несколько раз выходили на родительские демонстрации и засыпали Минобр письмами протеста против вмешательства государства в дела семьи. На антиювенальный «съезд родителей» 9 февраля явился даже президент Путин, который обещал прислушаться к их мнению в связи с тем, что в законопроекте «не в полной мере учтены российские семейные традиции».
— Ювенальная юстиция — это попросту правосудие для юных. Но термин находится в руках психопатов, — считает Михаил Агафонов, экс-редактор сайта Милосердие.Ru и церковный соцработник. — Да, наше государство и впрямь старается во всякую инновацию вшить репрессивные инструментики, в законе много сомнительных формулировок, по которым можно прижать к ногтю кого угодно. Но это не аргумент против ювенальной юстиции — в СССР и психиатрия была карательной, это же не аргумент против психиатрии вообще… История о том, что вот придет страшная ювенальная юстиция и отберет детей у благополучных родителей, — ложь. Отбирают у тех, у кого проблемы. Я как-то пытался помочь соседке: ее лишали прав. Когда я с ней работал, у меня было ощущение, что я, как в компьютерной игре, проваливаюсь на другой уровень. Вот моя улица: когда я иду без нее, я вижу солнце, дома и деревья. А когда я с ней, мы встречаем ее друзей: «Привет, как дела?» — «Да ничего, вот залетела, все никак не дойду аборт сделать, бухаю»… Это же целый мир! Если у всех таких людей забирать детей — значит, это у целого мира нужно забрать детей. Конечно, с ними нужно работать! А для этого нужен соответствующий закон.
Среди расплывчатых формулировок в законе, о которых говорит Миша, есть, например, упоминание неких «условий, препятствующих нормальному воспитанию и развитию ребенка» как достаточного основания для изъятия его из семьи.
О странных формулировках я спрашиваю одного из авторов нынешнего законопроекта — Аллу Дзугаеву, заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы:
— Да, здесь заложен высокий «предел усмотрения». Но ни в одной стране мира вы не найдете законодательного акта, который описывает всю вариативность «нормального или ненормального» воспитания ребенка.
Я спрашиваю Дзугаеву, как воспринимают авторы законопроекта протесты и критику.
— Их реакция удивляет. Сегодня мировой тренд — программы, направленные на сохранение ребенка в биологической семье. В большинстве западных стран действует система профилактической работы, которая осуществляется до применения санкций к родителю. Мы как раз и предлагаем использовать такой профилактический механизм.
По мнению Бориса Альтшулера, правозащитника, руководителя фонда «Право ребенка», настаивающего на значительном пересмотре закона о соцпатронате, главной его проблемой является возложение всех полномочий по социальному патронату на органы опеки.
— В Семейном кодексе девять статей про то, как органам опеки отделить детей от родителей, — говорит Альтшулер. — И еще 42 — про то, как им устраивать оставшихся без попечения. А вот как работать с семьей, чтобы не отобрать ребенка или вернуть, — про это ничего нет. Опека изначально направлена законодательством на разрушение семьи, это карательный орган.
— Не надо фантазировать! — возражает Дзугаева. — Никакого другого органа нет и не будет. Если отдельные работники опеки работают плохо, это не значит, что их полномочия нужно передать в другие структуры. Ведь никто не говорит, что, если у нас есть плохие полицейские, то нужно передать функции полиции в отдел молочной продукции!
Альтшулер полагает, что полномочия по социальному патронату следует возложить не на органы опеки, а на КДН — комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку орган это, во-первых, коллегиальный, а во-вторых, в отличие от опеки, не является получателем бюджетных средств.
Монстры опеки
Зампредседателя балашихинской КДН Инна Соколова, начальник отдела по делам несовершеннолетних, в прошлом сотрудник милиции, — не жесткая протокольная тетка, как я ожидала, а тонкая дама, похожая на героиню французского нуара.
— Проблема в том, что роль комиссий четко не определена, функции не прописаны — говорит она. Деятельность КДН регламентирует положение от 1967 года!
— Ну а если ваши функции «пропишут»? Возьмем, к примеру, семью Голиковых. Какой должен быть подход?
— Семья с детьми проживает в квартире, где тараканы, блохи, множество животных, грязь. Когда я туда пришла с советником губернатора, потом с нее блох стряхивала. Мне, как матери, этих детей очень жалко. Бомжи лучше живут в своих шалашах... Наша участковая социальная служба и порядок им наводила, и детей отмывала и собак вывозили на усыпление.
Вспоминаю побитых жизнью голиковских собак, и мне становится не по себе. Соколова продолжает:
— Голиковых следовало бы лишить прав, чтобы они наконец навели порядок.
— А как же психологическая травма у детей... — под ее строгим взглядом мне становится неловко договаривать фразу, — от разлуки?
— Да перестаньте. Пусть наведут порядок и восстанавливаются, это несложно. Какое у них есть заболевание, которое не позволяет им навести порядок?
Инне Соколовой действительно жалко детей. Просто у нее своя правда. И свои представления о благополучии. Между прочим, ее правда наверняка могла бы совпасть с моей, приди я впервые в дом Голиковых с ней, а не с волонтерами.
Направляясь в балашихинские органы опеки, я думаю, что предлагаемая Альтшулером рокировка в законе — КДН вместо опеки — совершенно бессмысленна, подход один и тот же, никакой разницы.
Или разница все же есть? На улице холодно. В ожидании приемного часа просители толкутся в предбаннике «органов». Внутри есть стулья и центральное отопление, но дверь не открывают. Наконец является руководитель управления опеки и попечительства Ирина Казанцева, дородная тетка в черной облегающей кофте и крупных бусах, на лице — тоска. Именно она будет «патронировать» семью Голиковых, когда закон вступит в силу.
— Заходить можно? — робко интересуются просители.
— Ну, догадайтесь, раз я открыла!
Первая просительница заходит в кабинет Казанцевой.
— Так, дверь в мой кабинет не закрывать!
Просительница присаживается на краешек стула. Путано объясняет, озираясь на сидящих в коридоре: вот, мол, денюшку нужно снять с банковского счета ребенка, а для того нужна справка... Какая-то гоголевщина.
— Паспорт, — не глядя приказывает Казанцева, когда я вхожу.
— А я совсем по другому вопросу… — неожиданно ловлю себя на тех же интонациях, что были у предыдущей просительницы.
— Паспорт, я сказала.
Даю паспорт. По-прежнему не глядя на меня, она переписывает мои данные в толстый журнал. Доходит до прописки — московской, — наконец поднимает на меня взгляд и изумленно констатирует:
— Вы не из области.
— Из Москвы, — злорадно говорю я. — Журналист. Хотелось бы с вами поговорить.
Что-то происходит с ее губами — возможно, это улыбка. Несколько секунд Казанцева молчит, потом дар речи возвращается:
— Получайте разрешение у министра образования Московской области. Сама я с вами не имею права разговаривать.
— Да помилуйте! — Гоголевские обороты оказываются как нельзя кстати. — Со мной всякий человек имеет право разговаривать.
— Так то человек, — строго отвечает Казанцева. — А я не человек! Я государственный работник.
В тот же день я отправляю официальный запрос в минобр Московской области, искренне надеясь, что мне откажут (мне действительно отказывают). Похоже, я и впрямь имела дело с негуманоидом — наш диалог был бы невозможен, даже если бы его разрешили. От мысли, что моей семье чисто теоретически могла бы помогать в трудный час такая вот Ирина Казанцева, до сих пор жутко.
Орлы опеки
— Оступилась я в жизни, запила. Полностью моя вина, сознаю. Хочу сказать об органах опеки, что со мной была проведена воспитательная работа, неоднократно…
— А что значит «воспитательная работа»?
— Ну, то, что человек по-дружески мне объяснил, что, Светлана, ты же можешь потерять все. Так и произошло, на тот момент я не осознавала всю ситуацию. И лишили меня родительских прав…
Орел — чистый городок. Здесь своя, уютная и неспешная, жизнь, круглолицые люди, действительно похожие на людей, даже если они государственные работники. В Орел мне посоветовали приехать за позитивным примером: говорят, здесь сотрудники опеки, во-первых, не зверствуют, во-вторых, изучают опыт Европы в области социального патроната.
Речь Светланы, ее полународный-полупротокольный с хрипотцой говорок убаюкивает. Мы едем в Орловский район, в деревню Березовый Дол, где живет Светлана, а еще ее кума Лена, которая тоже вроде бы «оступилась». За рулем — Елена Назарова, начальник отдела по защите прав несовершеннолетних, опеке и попечительству департамента образования Орловской области. Должность звучит устрашающе, однако сама Назарова — разговорчивая и совсем не страшная дама с очень типичным орловским добродушным круглым лицом.
Березовый Дол выглядит уже не так опрятненько, как Орел: покосившиеся дома и залитые мерзлой грязью колдобины, но все равно достаточно пасторально. Заходим к куме. Светлана и Лена — примеры успешной социальной работы орловской опеки с хеппи-эндом и возвратом детей в финале.
Безусловно — я не сомневаюсь, — в Орле и области есть при этом масса примеров с совсем другим «эндом», и туда меня никто просто не повезет, и слова Светланы какие-то уж больно заученные… Но все же здешние чиновники легко согласились меня принять, а по интонациям, по выражениям лиц и каким-то косвенным признакам можно понять, что Светлана с кумой этим тетушкам из опеки действительно доверяют.
— Я даже не знала, как до интерната доехать и какие документы нужны. И что чеки на все покупки для ребенка нужно сохранять для суда. Без поддержки опеки я бы ребенка себе не вернула. И я вот думаю с ужасом: а если бы попался другой человек?
— А как восприняли соседи возвращение ваших детей в семьи?
— Все думали в деревне: вот я привезу ребенка из интерната, а он другой, — отвечает Светлана. — А он — да, другой, не такой, как все здесь. У всех один компьютер — у нас их два. У всех куртка за тысячу, а у моего сына — за пять! А вон у Елены плазменный телевизор! Разве в этом есть какое-то «неблагополучие»?
— Соседи по деревне завидуют, что мы себе детей вернули, — поддакивает Елена. — Хотя у нас и среди соседей одна пьет не просыхая, другая не пьет всего месяца четыре, а то ребенок ходил в таком ужасном виде...
— Да, у нас много тут алкашей. Ходят все: то «дай денег на бутылку», то «дай похмелиться».
— Почему же вы о них говорите с таким презрением? — удивляюсь я. — Вы же сами рассказываете, как тяжело, когда все отвернулись...
— Ну, у нас тут такие соседи… Здесь, в Березовом Доле, люди гадкие. Чуть что — сразу: «Вот, пропивали!» Так мы свое пропивали…
— А скажите, если бы работа с вами началась не после, а до того как отобрали родительские права? — опережая меня, спрашивает женщин Назарова.
— На нас бы не подействовало. Для нас толчком было именно то, что отобрали ребенка.
— А если бы ребенка отправили не в интернат, а в приемную семью? — снова интересуется Назарова. — Но при этом он бы знал, кто его мать… Это лучше было бы?
— Если бы я знала, что ребенок живет в семье и у него все хорошо, я бы, может, и не бросила пить, — отвечает Елена.
Вид у начальника отдела опеки озадаченный. Когда мы уходим, Назарова признается:
— Не думала, что для них так важно именно внешнее благополучие как доказательство и мерило счастья ребенка.
— Вы изучали французский опыт. Что скажете?
— Во Франции вопросы детства решает специальный ювенальный судья, и это правильно. При судье — воспитательная служба, она собирает весь материал, делает психологические портреты... Если ребенка изымают, его обычно помещают в профессиональную приемную семью, а не в приют. Но это рассматривается как временная мера, родители не лишаются прав, с ними работают, вся система направлена на исправление «неблагополучной семьи» и возвращение ребенка.
— России нужны профессиональные приемные семьи?
— Да. В Европе ребенку подбирают семью, подходящую именно ему, с его проблемами. Семья получает деньги за воспитание, это воспитание и есть их работа. У нас же приемные родители — это навсегда, они выбирают себе ребеночка на всю жизнь, обычно маленького и симпатичного, а остальные остаются в детдомах. Если в России не ввести институт приемных семей, у нас так и останутся повсеместно интернатные заведения.
— А вы не любитель таких учреждений? Как же страшилки про опеку, которая стремится при любом удобном случае отдать ребенка в «заведение», чтоб был сыт и обут?
— Так как критерии неблагополучия не прописаны, решение каждый раз принимает какой-то конкретный человек. Но даже если критерии прописать — есть ведь еще нетехнологическая составляющая — душа. У кого-то она есть, а у кого-то ее просто нет.
Последняя семья, в которую я прихожу в Орле, приемная: женщина взяла под опеку трехлетнюю дочку брата. Брат в тюрьме, родная мать девочки наркоманка. Эту семью патронируют две юные сотрудницы, зарплата у них — 10 тысяч рублей в месяц.
Семейство встречает и меня, и опеку радушно, трехлетняя Маша демонстрирует большого плюшевого ежа, который, по ее мнению, болен.
— Нет иголочек, — озабоченно повторяет она. — Совсем нет иголочек.
Сотрудницы опеки объясняют, что еж не болеет, а просто очень добрый. Рассматривают Машины рисунки. Спрашивают приемную маму про анализы крови: «Нет гепатита!» — «Ну, слава богу!»
Я наблюдаю за ними и понимаю, что сегодняшняя «защита детей» в России — это сфера, в которой начисто отсутствуют объективные профессиональные критерии как процесса, так и результата. Все действительно зависит исключительно от человеческих свойств сотрудника, и не похоже, что новые законы с их высоким «пределом усмотрения» помогут эту ситуацию переломить.
— Ну как, в Орле были такие же адские тетки, как в Балашихе? — спрашивает моя восьмилетняя дочка.
— Нет, эти были не адские, — отвечаю. — Хорошие.
— Вот видишь, — радуется она, — нужно просто прогнать всех адских с работы, и все наладится.
Я киваю, у нее все пока так просто. Нужно только найти четкий критерий, отличающий «неадских» от «адских». Разработать специальный тест на человечность, всех нелюдей выгнать… И бес сиротства наверняка уйдет вместе с ними.

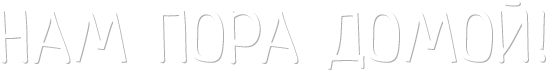 для специалистов по устройству детей-сирот, законодателей, волонтеров
для специалистов по устройству детей-сирот, законодателей, волонтеров