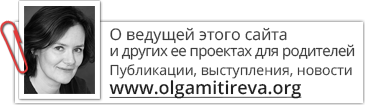- I. Как защищается право ребенка на жизнь и личную безопасность
- III. Как помочь родной семье не отказываться от ребенка - теория и практика
- IV. Ребенок-инвалид останется в семье, если семья будет интегрирована в общество
- V. Реформа детдомов: к чему надо стремиться и реальное положение дел
- VI. Мнения профессионалов в области семейного устройства
Без жалости. Как депутат в дом малютки ездил. "Русский репортер", 4 марта 2013 года.
Источник:
http://rusrep.ru/article/2013/03/04/malyutki (Часть I)
http://rusrep.ru/article/2013/03/11/dommalutki2/ (Часть II)
Автор: Марина Ахмедова
Несколько серых ступенек ведут ко входу в дом малютки. Кругом – снег, и кое-где – скучные сосны. У двери – скамейка. На ней никто не сидит. На ступеньках – два депутата. Женщина в тигровом полушубке, с приподнятой и неподвижной прической. Она – депутат местного собрания. И депутат Госдумы Илья Пономарев. На нем – серое полупальто с капюшоном и накладными карманами, оно делает его похожим на пионера.
– Заведующая скоро подойдет, – говорит представительница местной администрации – женщина средних лет, в темно-коричневой вельветовой юбке с кружевной оторочкой. – Она еще дома была, когда я ей звонила. Сказала, будет через двадцать минут. Наверное, готовится, прическу делает.
«Если заведующая будет делать такую же прическу, как у депутата местного собрания, нам ждать ее – полдня», – думаю я.
Сашка
Женщина-депутат достает из сумки фотоаппарат-мыльницу и фотографирует Пономарева. Потом она передает мыльницу женщине из администрации и фотографируется с Пономаревым на верхней ступеньке дома малютки. Пономарев, когда его фотографируют, улыбается и выглядит довольным.
Через двадцать минут мы входим в помещение. Нам навстречу идет заведующая – оказывается, она уже давно на месте. Это женщина лет пятидесяти, с полными мягкими ногами, выглядывающими из-под белого халата. Она обута в туфли на каблуках удобной средней высоты. Ее каштановые волосы коротко пострижены, на них – ни намека на подготовку ко встрече с депутатом. Заведующая выдает нам одноразовые голубые халаты – длинные, с завязками сзади. Я завязываю свой спереди.
– Сашка у вас? – тихо спрашиваю ее.
– У нас… – она делает паузу и в этой паузе улыбается, качая головой. – Но вы не должны об этом знать.
Сашку я уже видела раз, когда была в этом доме малютки два месяца назад. Тогда ему было шесть месяцев. Я вошла сюда под видом сотрудника местной администрации. Заведующая по-прежнему не знает, что я – журналист. А приезд с депутатом Госдумы должен укрепить ее в мысли о моей близости к администрации.
– Можно руки помыть? – спрашиваю ее.
– Мне бы не хотелось бы, чтоб вы его трогали, – отвечает она.
– А так потрогать хочется… – произносит женщина-депутат.
Пономарев в это время стоит в коридоре – тихий.
– А вот я не хотела бы, – настаивает заведующая, но я все же иду мыть руки в туалет.
– У нас врач угрожает, что уйдет, – полушепотом рассказывает заведующая Пономареву. – Мы на колени перед ней падаем.
– А что, нет других врачей? – спрашиваю я, выходя из туалета.
– Во-первых, тут очень сложно работать, – отвечает она. – Во-вторых, нам привозят пациентов, от которых все отпихнулись. А она распутывает эти клубки профессионально.
– А на какое количество детей рассчитано ваше отделение? – тихо спрашивает Пономарев.
– На двадцать.
– Угу… – произносит Пономарев.
– Сейчас у нас детей мало, – продолжает она. – Это для нас, конечно, плохо, мы не реализуем все койки.
– Дети мигрантов по-прежнему у вас? – спрашиваю ее, вспоминая, как в мой прошлый приезд таджикскими младенцами были заполнены две палаты.
– Мы их родителям вернули. Опека этот вопрос решала. Изъяли девятнадцать детей. Там, видимо, какой-то таджикский табор стоял или что-то такое. Часть из них отвезли в приют, а младших – к нам. Такой у нас был массовый заезд.
– А отказные дети мигрантов? – припоминаю я. – Они ведь у вас тоже были?
– Они ушли в приемные семьи.
– В русские семьи?
– Да.
– А почему Сашу никто не взял?
– А Саша болеет, – быстро отвечает она.
Мы стоим перед входом в его палату. У Саши дефект челюсти – волчья пасть. Когда я увидела его впервые, он лежал в кроватке на животе, лицом вниз, опираясь на лоб. Мне показалось, он каким-то образом знает о своем уродстве и прячет лицо. В середине лба у него сидела красная вмятина.
– Какое количество детей за год усыновили? – спрашивает Пономарев.
– За год – четырнадцать. Те, от кого отказались в роддоме, они быстро ушли.
– Все? – уточняет Пономарев.
– Сразу. Да. Отказные быстро уходят. А если больной или если узнают, что у него гепатит или что его мать была вич-инфицирована, таких берут гораздо реже. В прошлом году мы трех больных детей отвезли в дом ребенка, потому что никто не взял. Но как только ребеночек у нас появляется хороший… Если мы его обследовали и ничего у него не нашли, то родители для него быстро находятся.
– А вот… – начинает Пономарев, – вы же слышали все эти дебаты про усыновления наших детей иностранцами…
– У нас иностранцы никогда не брали детей, – быстро реагирует заведующая, и становится понятно, что говорить на эту тему она не очень хочет.
Пономарев молчит, и заведующая, кажется, начинает чувствовать себя неловко. Когда я хочу, чтобы тот, у кого я беру интервью, сказал что-то еще, я тоже молчу, своим молчанием вынуждая его сказать то, чего он говорить не планировал. А все потому, что многим людям – некомфортно в затянувшейся паузе.
– Я не знаю… – говорит заведующая. – У всего есть свои плюсы и минусы. Детям там легче, чем в наших интернатах. Хотя они там погибают, – быстро добавляет она. – Но и здесь погибают, – говорит заведующая тоном, в котором слышится боязнь сказать что-то лишнее. Кажется, она не знает, что перед ней депутат, голосовавший против «закона Димы Яковлева».
– У нас они здесь больше погибают, – телевизионным голосом вставляет Пономарев.
– Хотя вот по телевизору озвучивали цифры, – говорит она, – у нас меньше погибло…
– А больных детей у вас вообще в семьи брали? – спрашиваю я.
– Нет. Стараются взять совершенно здоровых.
– Мне трудно поверить, что за всю вашу практику не было ни одного больного ребенка, которого усыновили, – говорю я.
– Ну, вот я не могу припомнить…
– А сколько лет вы здесь работаете?
– С восемьдесят восьмого года.
– И что, Сашку никто не усыновит? – я произношу эти слова, скорее, утвердительно и берусь за ручку двери палаты, показывая, что уже готова войти. Но депутат задает еще один вопрос.
– Вы говорите, на них очередь. Значит, всех разбирают? – спрашивает он.
– Я не знаю, насколько много желающих.
– Но вы же говорите, что сразу разбирают, – говорит Пономарев. По его голосу слышно – он старается звучать мягко. У него не получается.
– Этим занимается опека. Я думаю, там много желающих. Даже те, кого я лично знаю, они обращаются. Они-то жаждут просто. Кто-то двухлетнего ребенка хочет, потому что работают и не хотят нанимать няню. У кого-то своих трое, и хотели бы еще приемного, чтобы в декрет не уходить.
– Ну а можно войти? – шепотом спрашиваю я и нажимаю на ручку двери.
Сашка подрос. Он спит. А когда к его кроватке подходят четверо взрослых, быстро просыпается. Улыбается. Его верхняя губа расщепляется до самого носа. Некрасивая, кривая рытвина выворачивает розовую губную мякоть и углубляется ближе к носу, утягивая за собой прорезавшиеся зубы. Один короткий молочный зуб растет в конце расщелины под самым носом. Глаза у Сашки – узковатые или такими смотрятся из-за расщелины. Ресницы – загнутые, в них видны желтые крупинки, появляющиеся со сна. Глядя на верхнюю часть его лица, я представляю черты его родителей. Почему-то мне кажется, что по Сашкиному лицу легко представлять лицо его матери или отца. У них – обычные русские лица. Не такие, как из русской народной памяти, а такие, какими лица могли стать у детей тех, кто делал октябрьскую революцию. Детей, которые потом работали на заводах, с каждым поколением серели, беднели, рожали и никогда ничего особенного из себя не представляли. На Сашке – светлая распашонка и ползунки. На ногах – носочки в желтую и розовую полоску. На полосках – слабые голубые звезды. Пономарев становится в ногах кровати. Заведующая и я – у ее поперечной перекладины. Сашка издает довольные звуки.
– Операцию ему сделали в декабре, по поводу сердца, – шепотом говорит заведующая. – Мы его в начале января из больницы забрали. Он там привык, что люди в белых халатах – это уколы, и поначалу так нас пугался. А потом вспомнил нас, заулыбался.
– А что там в больнице делали? – голос Пономарева выдает тревогу, но чувствуется, что его Сашка не трогает. Не трогает он и меня. И я спрашиваю себя: «Интересно, а хотя бы заведующая его любит?»
Пока заведующая рассказывает депутату о том, что Сашка родился не только с волчьей пастью, но и с пороком сердца, я спрашиваю себя, почему вид этого младенца не вызывает во мне жалости? Из-за уродства? А в родителях, которые родив до него троих детей, от этого четвертого отказались, он тоже не вызывал? И может ли ребенок, не вызывающий жалости даже у собственных родителей, лечь такой глубокой расщелиной в сердце постороннего человека, что тот захочет его усыновить? И нужно ли вообще испытывать жалость к приемному ребенку? Пока я думаю об этом, Сашка, не поднимаясь, делает бросок ногами в мою сторону. Его ноги смотрятся слабыми, но ему с первой попытки удается приблизиться к краю кровати и просунуть ногу между деревянными брусьями. Косясь на заведующую, я беру в руку его ногу в носке. Сашка издает улыбающиеся звуки.
– Вот так он лопочет, – говорит заведующая, – но расщелина не дает ему разговаривать. Расщелина неба и губы. Еще прооперированная грудина почему-то не срослась. Наш травматолог посмотрел, сказал, срастётся, – говорит она, как человек, сначала приучивший себя подавлять эмоции в голосе, а потом привыкший так звучать, даже когда эмоции давно ушли.
Сашка бьет ногой по моей раскрытой ладони. Кажется, он счастлив от такого количества взрослых, окруживших его.
– Хочет, чтобы с ним играли, – объясняет заведующая, хотя и так все понятно.
– Он изменился, – говорю я.
– Да, он вырос. У него и так характер был хороший, таким он и остался, только общения требует больше.
– Правильно, – говорит Пономарев, одобряя действия Сашки.
– К нему зайдешь – он будет улыбаться, бормотать. Выходишь – плачет, – говорит заведующая.
Сашка сухо кашляет. Его слабая грудь надувается и оседает под распашонкой.
– Ой, ты господи… – сюсюкает женщина-депутат, хотя видно, что и ей Сашку не жалко. Кажется, в этой комнате нет ни одного человека, которому было бы жалко Сашку. Но, может быть, я ошибаюсь, и его жалеет Пономарев или заведующая…
– Он не сидит пока, – говорит заведующая. – И мы ничего не можем ему делать – ни массажа, ни заняться физкультурой.
– Он мог бы стать полноценным членом общества? – спрашиваю я, продолжая держать в руке ногу ребенка.
– Вундеркиндом он не был бы. Во-первых, у него было кислородное голодание в утробе. Но глазки у него, посмотрите, какие умные. Как он хочет общаться. Скоро мы ему прооперируем челюсть.
– А это исправляется? – спрашивает Пономарев.
– Конечно. Но отпечаток останется. Форма носа может быть не очень красивой. Он добрый, веселый, улыбчивый, понятливый, – говорит заведующая, отходя от кроватки и давая понять, что нам из палаты пора.
Я выпускаю ногу ребенка. Хныкнув, он приподнимается и тянет руку к депутату. Пономарев быстро подает ему свою. Они пожимают друг другу руки, и я жалею, что не могу этого сфотографировать.
– Пока, пока, – машу я ребенку рукой, выходя из палаты.
– Когда следующая операция? – спрашивает Пономарев, переступая порог.
– Хочу сначала позвонить в Бакулева, чтобы посмотрели грудину, – отвечает заведующая.
Они идут по полутемному коридору. Разговаривают. Сашка хнычет за дверью. Хныканье переходит в плач – капризный и требовательный.
Отстав от заведующей и депутата, задаю себе вопросы. Во-первых, почему я, прислушиваясь к плачу Сашки, не испытываю жалости. Во-вторых, что хуже – не испытывать жалости или, уходя, сказать брошенному восьмимесячному больному плачущему младенцу «пока-пока»? В ком проблема? Во мне? Или в Сашке – изуродованном мальчике? И если проблема во мне, то сколько таких, как я – потенциальных-никогда-не-усыновителей? Мне остается только догнать заведующую с депутатом и спросить их, что они чувствуют к этому младенцу. Если, конечно, они захотят говорить правду.
Мы снова в коридоре. Возвращаемся в его начало, приближаясь к Сашкиной палате. Он все еще плачет.
– А по делу их изымают? – встревоженно спрашивает депутат Илья Пономарев.
– У нас не было случаев, когда не по делу. Мама пьяная шаталась по городу… У нас тут папа один драку устроил – ударил санитарку, оттолкнул, она упала, побилась. Украл ребенка. Но мы решили… не раздувать.
Через две двери Сашкин плач обозначается резче. И, как это бывает, когда находишься от источника на расстоянии, хорошо слышна только самая сильная, самая главная нота в нем – требование. Все сопутствующие звуки – слабые кряхтения, хныканье и нытье, которые я слышала, выходя из его палаты, – расстояние отсекает.
– Он еще плачет, – говорю я, показывая в сторону Сашкиной палаты.
– На то он и ребенок, – отзывается Пономарев.
– Нет, просто он знает, что к нему не подойдут, – непререкаемо произношу я.
– Он побольше стал и стал требовательней, – говорит заведующая. – Его потаскают на руках – он доволен. Положат – снова плачет. Но быстро успокаивается. Наверное, у него уже есть в голове… – она ищет слово.
Илья Пономарев
– Схема, – подсказываю я.
– Да, схема… – соглашается она.
– А детей много из семей изымают? – спрашивает Пономарев.
– Осенью наплыв, – отвечает заведующая. – С дачных участков собирают, из сараев.
Мы подходим к кабинету заведующей.
Их сдали обратно
– А расскажите про то, как возвращают усыновленных детей, – прошу ее, хотя уже слышала эти истории. Но в прошлый раз мне не удалось записать их на диктофон, и, восстанавливая по памяти, я упустила детали. Сейчас диктофон у меня в кармане под одноразовым халатом. Кроме того, я хочу, чтобы эти истории послушал депутат и при случае рассказал у себя в Госдуме.
– Случаи эти очень печальны, – начинает она, присаживаясь в кресло.
Илья Пономарев и местный депутат – женщина с приподнятой неподвижной прической – размещаются напротив на мягком диване.
– То женщина не смогла, то… – заведующая часто останавливается, видно, слова ей не даются легко. Но не из-за печальности историй, а просто она подолгу ищет подходящее слово. – У них не было детей, они взяли мальчишку. Но она не смогла пережить присутствия чужого ребенка в доме. И муж со слезами на глазах привез к нам мальчишку.
– А о чем они думали, когда его брали? – спрашиваю я.
– Видимо, мужчина этот очень хотел этого мальчишку… А она думала, что сможет… перебороть себя. Мальчишка плакал, ему три года, он все понимает. Мужчина тоже вот тут сидел, так они плакали вдвоем. Потом он бегал вокруг больницы, плакал. В окна заглядывал. Просил, чтоб мы ему мальчишку показали. Но мы сказали: «Вы уже отказались от него. Вы больше права не имеете».
– А еще история?
– Женщина взяла опеку над двумя мальчиками и одной девочкой. А потом сказала, что девочка испортит ей мальчишек. Девочке пятнадцать лет было.
– А чем испортит?
– А я не знаю… Знаю, что это соображение… эту идею усыновления надо вынашивать годами. Чтобы потом раз и навсегда решить. Эта девочка – нормальная совершенно. Истерик не устраивала, слушалась, не хулиганила, не дебоширила. Бывают такие дети – беглецы, нам их привозят. Они и курят, и хулиганят, и медсестер оскорбляют… Девочка была не такой. Женщине в опеке сказали: «Вы подготовьте ребенка к тому, что вы его сдадите». А она ее к нам привезла, на лечение положила, а потом говорит: «Я ее не заберу».
– А кто ей сказал, что ее сдают? Вы?
– Мы не смогли… мы не сказали. Опека просила саму мать ей сказать. Мать говорит: «Да, я девочку предупредила. Она все нормально восприняла. Все в порядке».
– А сколько лет она у нее в семье прожила? – спрашивает Пономарев, пока женщина-депутат, сидя рядом с ним, тихо охает и осуждающе покачивает прической в такт рассказу заведующей.
– Четыре года… И мы поняли, что ребенок вообще не в курсе, что ее дальше ждет. Что ее через два дня заберут в интернат. Мы попросили опеку, и они прислали педагога из интерната с ней поговорить. Девочка, конечно, рыдала. Жалко ребенка…
– Четыре года в семье прожить… – вздыхает женщина-депутат. – Может, они цель денежную преследуют. Пособие ведь им выплачивается.
– Но оно не такое большое для Московской области, – говорит Пономарев. – У нас в Новосибирской области на пособие мы сделали большой упор. Мы в целом ряде районов полностью решили проблему сиротства. Мы ездили по селам, по совсем селам-селам и пропагандировали – вы берете ребенка, и у вас семь тысяч пособия на него. Для них это реальное удвоение дохода. И они берут. В деревнях семьи и так большие… – заканчивает он, и я начинаю недовольно ерзать в кресле – мне хочется возразить.
Но что конкретно сказать – я не знаю. Во мне неприятное чувство вызывает мысль о том, что детей берут ради удвоения дохода. Но я знаю, что Пономарев сейчас своим теледебатным голосом легко разобьет все мои возражения. Впрочем, я и сама это могу сделать. Детям нужна семья. В семье им будет лучше, чем в государственном учреждении. И, наконец, для того, чтобы осуждать сельских жителей, берущих детей ради удвоения дохода, нужно прежде самой попробовать пожить в деревне с семьей на семь тысяч рублей в месяц.
Я молчу. Речь Пономарева встречает только одобрительные кивки прически женщины-депутата, которые становятся энергичнее.
– Вот такие у нас ситуации печальные… – вздыхает заведующая.
– А еще история, третья, – прошу я.
Она мне уже рассказывала ее. Семья отказалась от девочки. Заведующая сама хотела удочерить ее, но муж ей сказал: «Подумай». Она подумала и позволила всему идти своим чередом – забрать девочку из дома малютки в детдом. И теперь мне интересно: она приберегла эту историю напоследок или ей болезненно ее вспоминать?
– Когда Варю привезли, – начинает она, называя девочку по имени, и я про себя делаю вывод – «болезненно», – она была из благополучной семьи. Из богатой. И девочка такая симпатичная. Я спрашиваю: «Варя, а почему тебя в интернат отправили? Ты плохо училась?» Она говорит: «Да я колготки разбрасывала, мама ругалась». Вот так… ребенок себе все объяснил. Она говорит: «Я бы теперь за собой убирала, слушалась». А мать этой женщины сказала: «Еще вырастет, наймет каких-нибудь бандитов, и всех нас из-за нашего богатства ликвидирует».
– А что Варя сама говорила об этой семье?
– А ничего плохого не сказала, – вскидывается заведующая, – как я ни пыталась из нее вытянуть. Только говорила – ну вот я не слушалась, мама ругалась… по-детски так…
Нельзя любить
– А Сашка, он от домашнего ребенка чем отличается? – спрашиваю ее.
– Ну, у него все позже. Он не сидит из-за своей болезни. И все равно ребенок, который в семье растет, он знает руки, с ним сидят, с ним разговариваю. У нас тут такого, конечно, нету.
– А у вас тут хорошо, – Пономарев оглядывается по сторонам и поудобнее устраивается на диване, – уютно.
– У нас в две тысячи восьмом был капремонт, – улыбается заведующая. – Замена всего. Только стены оставались. Мы, правда, это пережили с трудом.
– А как вы считаете… – начинает Пономарев. – У нас просто спор постоянно идет – что нужно: при строительстве увеличивать количество коек или больше вкладывать в оборудование?
– Надо и то, и другое. Оборудование куда попало тоже не поставишь.
– А приоритет какой? – спрашивает депутат, и они минут десять говорят об оборудовании, капитальном строительстве, койках, педиатрах и жизни в сельской местности.
– А если бы вас пригласили в Госдуму на обсуждение какого-нибудь нового законопроекта о детях-сиротах, – обращаюсь я к заведующей, – и там бы предлагали платить усыновителям по сто тысяч рублей в месяц. Вы бы одобрили такой закон?
– Я не думаю, что это стоит делать, – заведующая неодобрительно качает головой.
– Почему?
– А просто денег захотят. Если деньги не очень большие, то на чашах весов поровну – и желание усыновить, и выгода. А если сто тысяч… то будет чистая выгода.
– А что бы вы вообще сказали депутатам, которые принимают законы о детях? Ну, предположим, вас бы спросили…
Она бросает неуверенный взгляд на Пономарева. Судя по довольному выражению его лица, ему по-прежнему уютно – он-то голосовал против поправки к «закону Димы Яковлева», запрещающего иностранцам усыновлять российских детей. Но мне очевидно, что заведующая об этом совсем ничего не знает.
– Наверное, я направила бы свои мысли на семьи, которые берут больных детей, – говорит она, тщательнее подбирая слова, – чтоб у них были гарантии вне очереди. Вот мы с Сашкой приехали в больницу, это было осенью, а нам говорят – встаньте на очередь. А по очереди операция положена только в декабре.
– А у Саши от промедления что-то зависит?
– Конечно! Возможность разговаривать. От этого и мозги позже развиваются. Будь он домашним ребенком, родители бы тыкались и все равно добились вне очереди. Но такого ребенка никто не возьмет…
– А вы говорите, в Бакулево? – переспрашивает Пономарев и делает такой вид, будто записывает себе что-то на подкорку.
– А вы их любите? – спрашиваю заведующую, имея в виду детей.
– Я стараюсь их не любить, – улыбается она. Когда она говорила о Варе и в прошлый раз, и в этот, то тоже улыбалась. – Вы знаете что… Настолько потом жалко отдавать опеке. Мы стоим потом на крыльце и рыдаем. А вот нельзя, нельзя… Я потом из-за этой Вари рыдала, а я больше рыдать не хочу. А еще Ира у нас маленькая была. У нее еще одна ножка короче была. Мы говорим ей: «Ира, давай бегом, бегом!» И она бежала так смешно… Изъятая…
– А разве можно как-то не разрешить себе любить?
– Я просто не думаю об этом. Душа потом изболится. Разве можно так работать? Нельзя об этом думать, нельзя.
– А Сашку вы не любите, – утвердительно произношу я, но слабо маскирую свое утверждение под вопрос.
– А этого нельзя объяснить, – усмехается она. – Почему-то к этому душа тянется, а к этому – нет.
– Может, потому что он уродлив?
– А это непонятно… Некоторые медсестры его любят. А у меня, вот такой, материнской жалости к нему нет, – произнося эти слова, заведующая улыбается хитро. Как человек, который знает что-то такое.
– Никогда не знаешь, к кому, – задумчиво говорит Пономарев, наверное, желая поддержать заведующую и показать ей, что он ее понимает и тоже знает что-то такое.
– Отдавали эту Иру когда в детдом, все стояли на крыльце, рыдали, – заведующая смотрит на Пономарева. – Я про Варю думала полгода, – говорит она, и слова ее похожи на выжимку из материнского сердца, которое высохло, запретив себе любить, но при усилии из него можно нацедить чего-то очень горького. – А муж мне говорит: «А ты подумай. Сможешь ли ты?» А я уже устала и не смогла бы.
– Тем более у вас здесь работа, – мягко вставляет Пономарев.
– Да, – с готовностью подтверждает она, – приходишь домой с работы выжатая, как лимон…
Мы выходим в коридор. Сашка уже не плачет.
P.S.
– Я первый раз был в подмосковном доме малютки, – говорит Пономарев, когда мы возвращаемся в Москву. – Здесь, в этом поселении, все хорошо с бюджетом. Видно, что люди, конечно, живут небогато, но какие-то доходы есть. А в такой ситуации и нет особой ментальности – не будем брать детей. У нас, в Новосибирской области, конечно, по-другому.
– То есть тебя удивило то, что здесь принимают детей в семьи? – спрашиваю я.
– Меня это не удивляет, меня это очень сильно обнадеживает. Это говорит о том, что люди готовы брать детей, и их не надо уговаривать и воспитывать в них это желание десятилетиями. Если у них есть возможность, они берут. Но есть проблема больных детей. Я на себя примеряю эту ситуацию – смог бы я взять больного ребенка. Это было бы для меня очень сложным шагом. Лучше десять здоровых, чем один больной.
– Почему?
– С ним придется возиться, ему надо себя посвятить. Это колоссальная проблема… Ну и второе, что я вынес из этой поездки, по поводу усыновления иностранцами. В ситуации, когда все работает, эта проблема становится вторичной. Вот в этом районе, где мы сейчас были, она неактуальна. Она актуальна там, где ничего не работает. Конечно, надо делать так, чтобы дети оставались в России, и мы можем этого добиться, но не запретами, а созданием условий для этого.
– Да? И когда эта мысль пришла тебе в голову?
– Я всегда так считал.
– А почему они должны тут оставаться?
– А потому что у нас тут людей не хватает. У нас реальная демографическая проблема. Если выбор стоит – либо никакой семьи, либо иностранная, то тогда, конечно, иностранная. Но если есть возможность отдать ребенка в российскую семью, то, конечно, надо отдавать в российскую.
– Ты, например, мог бы усыновить больного ребенка и нанять для него няню, – произношу я после минутного созерцания снежных сосен через машинное окно.
– А чем это отличается от маленького детского дома?
– Ну… ребенок бы знал, что у него есть мама и папа. И папа вечером придет с работы.
– Это вопрос ответственности и нагрузки на семью. Когда в семье кто-то болеет, это – всегда проблема. Не только сочувствия и сострадания, но и организационная проблема.
– То есть сама мысль тебе не противна?
– А что в ней противного?
– А то, что Сашка не вызвал в тебе никаких чувств.
– Он вызвал во мне ровно те чувства, какие вызывает любой другой ребенок.
– А какие чувства в тебе вызывает любой другой ребенок?
– Ребенок вызывает чувство теплоты… надежды… улыбки… – мучается Пономарев. – Дети все хорошие. Детей плохих не бывает, – говорит он, и мне хочется добавить: «Плохими бывают только депутаты». – То есть… м-м-м… Я, скорее, увидел, что проблема на самом деле не столь фатальна. То есть нет нерешаемой проблемы… Але, да, здрасти, здрасти… – отвечает он на телефонный звонок и начинает обсуждать какую-то еще проблему, занимающую прессу и все прогрессивное сообщество. А я, глядя в окно, думаю о том, что и она через некоторое время окажется нефатальной.
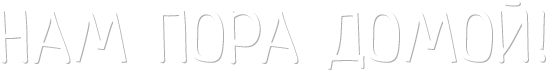 для специалистов по устройству детей-сирот, законодателей, волонтеров
для специалистов по устройству детей-сирот, законодателей, волонтеров